Функции синонимов в произведениях И.Бунина
Если синонимия в изображении субъекта «работает» на ироническое описание действительности, то синонимия в обозначении объекта представляет собой отражение мнения писателя об объекте изображения. Рассмотрим примеры синонимии в произведении И.А. Бунина «Деревня», посвященном теме русского народа и отражающем образы русских людей.
И.А. Бунин не был из тех людей, которые слепо и бездумно обожают русский народ. Наоборот, его отношение было во многом противоречивым и неоднозначным.
В рассказах Бунина видим тему запустения, брошенных деревень, непонимания, тщетных поисков лучшей жизни. Многие герои писателя заняты бессмысленной и не ясной им самим деятельностью. Например, влюбленный в простую девушку Лушку помещик сходит с ума после ее смерти, и вся его жизнь мыслится как служение одному божеству – Лушке. Он неподвижно сидит целыми днями, думая только о своей утраченной возлюбленной.
В другом рассказе барин подарил крестьянке красивый дорогой платок, и она так берегла платок, что носила его изнанкой наружу – чтобы не выгорел. Так и износила всю жизнь – изнанкой наружу…
В «Суходоле» проявляется тема своеобразного равенства крестьян и бар – и в то же время их удивительной похожести. Как не может найти свою любовь барышня, так же несчастна и Наталья. Каким беспутным вырос барчук, таким же является и слуга Гервасий… Примеры этой симметричности, похожести поражают писателя: он с удивлением приходит к мысли, что нет непроницаемой границы между барином и мужиком, что это люди, сделанные из одного теста.
Печальные размышления о сущности русского характера видим в произведении «Окаянные дни», созданном Буниным в Одессе, когда он собирался эмигрировать. Постоянные отчаявшиеся восклицания перемежаются в этом произведении с поражающими воображение картинами жестокости и ужасов «окаянных дней» - военного и революционного безвременья.
Герои «Деревни» - простые крестьяне, в жизни которых можно выделить несколько фундаментальных черт:
Диалектика барина и крепостного, крестьянина и господина:
Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.
…
А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!
О неизбежности этой диалектики писал еще Гегель. Когда два человека находятся друг перед другом, то между ними возникает напряженность, потому что каждый из них хочет, чтобы другой признал его господином ситуации, то есть как того, кто определяет себя и другого. В этой борьбе за признание один будет подчинен другому. В итоге возникает ситуация, в которой есть господствующий, «господин», и подчиняющийся, «раб». Господин вынуждает раба работать на него. Результатом этого является взаимное развитие, при котором человек (раб) возделывает природу и культивированная природа, в свою очередь, изменяет человека. Мы приходим к диалектическому процессу, разворачивающемуся между человеком (субъектом) и природой (объектом). В этом процессе «раб» находится ближе к действительности, тогда как «господин» выступает в роли необходимого катализатора.
Отношение господин-раб является диалектической связью в том смысле, что между двумя этими субъектами существует внутреннее динамическое взаимодействие. Господин является господином только потому, что раб признает его в качестве господина. Соответственно, раб постольку раб, поскольку господин признает его в качестве раба.
Однако господин становится зависимым от вещей, утратив прежнюю независимость, потому что теряет навык делать то, что делает раб; тем временем раб становится независимым от вещей, так как он их производит. При этом господин не способен полностью реализовать свое самосознание, в силу того, что раб, низведенный до положения вещи, не в состоянии быть диалектическим полюсом, с которым его хозяин мог бы себя адекватно соотнести (справедливо замечено, что быть только господином значит намного меньше, чем быть личностью, наделенной самосознанием). В то же время раб имеет в лице господина диалектический полюс, позволяющий обнаружить в нем сознание, ибо как раз сознание господина повелевает, а слуга делает то, что велит господин. Так Гегель обозначил необычайную диалектическую потенцию, таящуюся в труде. По словам Гегеля, рабское сознание именно в труде обретает самое себя, стремясь найти собственное значение, хотя труд, как казалось, делал это значение отвлеченным.
Двойственное, странное отношение к вере:
Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка, — так смирно и ласково-грустно, — темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.
Эта вера причудливым образом сочетается с суевериями и язычеством:
Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула.
В сознании героев рассказов Бунина причудливо сочетаются христианство и язычество, любовь и ненависть, вера предков и беспробудное пьянство.
В произведении есть и «нетипичные» русские:
— Я, брат, — как бы это тебе сказать? — странный русский тип.
— Я и сам русский человек, имей в виду, — вставил Тихон Ильич.
— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!
Кузьма Ильич любит поговорить о нетипичности, противоречивости русского народа:
Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как Сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.
Для подтверждения своих мыслей он обращается и к фольклору:
Историю почитаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на́ землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придирчивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи; ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да кляузницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой ре «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои — умойся, в тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... A прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...
Казалось бы, национальный характер в представлении писателя выглядит негативно:
Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, — и не только по пьяному делу, — все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными, — вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет...
Повесть обрывается без вывода и эпилога: уставший Тихон Ильич просто долго сидит за столом. Зарисовка Бунина грустна и печальна, практически безнадежна, но и в ней проскальзывают светлые стороны: красавица Молодая, Дениска, который, возможно, станет для Тихона Ильича приемным сыном…
Русский национальный характер сложен и противоречив, и разные писатели по-разному изображали его в своих произведениях. Символом России был и могучий Илья Муромец, и тихий Самсон Вырин Пушкина, и непокорный обществу Чацкий, и ленивый Обломов… Бунин видит русский характер через призму деревни – деревни несчастных людей, в которой никто не может реализовать себя.
Тихон Ильич хотел иметь детей, но все его дети умерли, и он богатеет по инерции, не зная, кому и зачем все это богатство. Его брат Кузьма пишет бесталанные, вторичные стихи, которые никому не нравятся. Деревенские мужики погибают, сходят с ума от любви и жестокости, женщины вынуждены подчиняться их произволу… В повести Бунина нет счастливых людей: все недовольны, все не рады, всем чего-то не хватает.
Герои многих зарисовок Бунина страдают от отсутствия самореализации и смысла в жизни. Герои Суходола – потерянные, несчастные дворяне и крестьяне, чья любовь так и не увенчивается счастьем. Героиня «Легкого дыхания» погибает, герой «Чистого понедельника» не находит взаимности в любви… Все несчастны и грустны, и оттого еще более пронзительным кажется прекрасное описание природы, любовь, проявляемая писателем. Кажется, что люди вдвойне несчастны от того, что живут среди такой удивительной красоты и никак не могут слиться с ней в гармонии. Герои Бунина часто заняты бессмысленными действиями, они не находят удовольствия ни в труде, ни в любви.
Русский национальный характер у писателя предстает как причудливая смесь темных верований и искреннего рвения, жестокости и добродушия, жадности и щедрости, любви к знаниям и невежества… Все эти черты в России могут сочетаться в одном человеке. Это и старался показать Бунин, улавливая символическое в простых движениях ветра или лае собак, видя обобщение в самых обыкновенных поступках героев.
Ряды объектной синонимии выстроены в «Окаянных днях»:
Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов,- и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками...
"Ах, мщения, мщения!",- как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.
Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: "Ужели Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе - наше поражение!"
Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. "Я верю в русский народ!" За это рукоплескали.
Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть "друзьями народа, молодежи и всего светлого", что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними,- и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:
- Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу?!
В самом деле: то, что называется "честный", красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.
Какое огромное количество таких "лгунов" в моей памяти!
Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.
-----
Как мы врали друг другу, что наши "чудо-богатыри" - лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!
- Значит, ничего этого не было?
Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом - Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, "шаткость", как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: "Из нас, как из древа,- и дубина, и икона",- в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту "икону", эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ,- если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств,- и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:
- Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.
А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только "народ", "человечество". Даже знаменитая "помощь голодающим" происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.
То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. "Солдатики" были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: "Что ж, сестрица, все Божья воля!" - и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, врали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: "Да черт... Чертом представляется, козлекает...")
Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!
Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь". Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит - один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:
- Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем,- карету мне, карету!
Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей "Деревни",- сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то "настоящая" работа,- сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность - вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!
Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые "запросы", будто бы происходящие от наших "глубин".
"Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного".
Это признание Герцена.
Вспоминаются и другие замечательные его строки:
"Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье... Мы канонизировали человечество... канонизировали революцию... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения..."
Нет, отрезвление еще далеко [Бунин 1991, 200].
Таким образом, синонимия в обозначении объекта в произведениях И.Бунина представляет собой отражение мнения писателя о данном объекте изображения.
Список использованной литературы:
1.Брагина А.А. Синонимы в литературном языке. М.: Наука, 1986. 126 с.
2. Золотова г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973.
3. Лосева Л.М. Как строится текст. М.: Просвещение, 1980.
4. Черняк В. Д. Синонимические связи слов в лексической системе русского языка. - СПб., 1992.
5. Шхапацева М.Х. Лингвистика и лингводидактика (избранные работы). Майкоп: Аякс, 2005.
6. И.Бунин. Избранное.
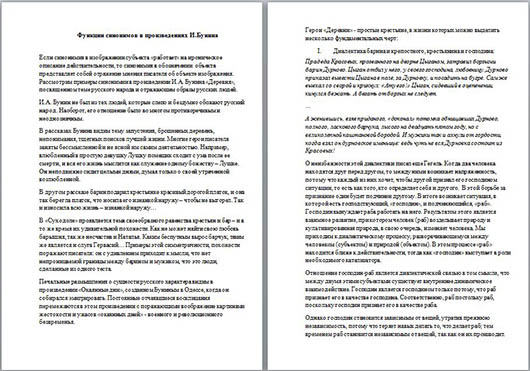

 Получите свидетельство
Получите свидетельство Вход
Вход


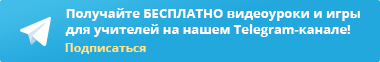









 Материал по русскому языку "Функции синонимов в произведениях И. Бунина" (27.34 КB)
Материал по русскому языку "Функции синонимов в произведениях И. Бунина" (27.34 КB)
 0
0 602
602 6
6 Нравится
0
Нравится
0


