Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года. Его отец, Юрий Петрович, был офицером. Его мать, Мария Михайловна, умерла вскоре после рождения сына.


Мальчика растила бабушка Елизавета Алексеевна. Самая богатая помещица Пензенской губернии, она в своём имении Тарханы баловала слабого и болезненного внука, выполняя малейшие его капризы.

Подросшего Михаила бабушка отдаёт в пансион в Москве. Там мальчик учится два года. Затем он поступает в Московский университет. Серьёзное увлечение литературой происходит именно в университете. Михаил читает стихи Байрона, Шиллера, Шекспира.
Но бабушка мечтает о военной карьере для внука, и Михаил после университета поступает в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. С 1834 года Лермонтов служит в престижном Гусарском полку в Царском Селе.

Стихи Лермонтов начал писать ещё будучи ребёнком. В пансионе, в университете и в школе он тоже пишет. Стихотворение «Парус», поэма «Ангел смерти», «Хаджи Абрек», незаконченный исторический роман «Вадим»… Но пока что о нем знают в основном в офицерских кругах.
По-настоящему известным имя Лермонтова стало после выхода стихотворения «Смерть поэта», написанного в связи с трагической гибелью Александра Сергеевича Пушкина.

За крамольные стихи последовал арест, затем – суд. Только благодаря хлопотам друзей Пушкина, особенно близкого ко двору Василия Андреевича Жуковского, да бабушки Елизаветы Алексеевны дело закончилось ссылкой на Кавказ. По пути к новому месту службы Лермонтов создаёт стихотворение «Бородино».

На Кавказе Лермонтов много пишет. Там же им были задуманы и частично начаты поэмы «Мцыри», «Демон». Кроме того, он становится известным и как художник.

Но бабушка, используя свои весьма серьёзные связи в высшем свете, добивается возвращения Михаила в Петербург.
Лермонтов был человеком резким, мог зло и обидно подшутить над тем, кто ему не нравился. А разрешение споров в те времена было одно – дуэль. За дуэль с сыном французского посла Лермонтов вновь был выслан на Кавказ. Там как раз обострилась обстановка, и Михаил участвует в сражениях. Его храбрость была отмечена в приказе.

Возвращаясь из второй ссылки, Лермонтов в Пятигорске встретил своего товарища по учёбе Николая Мартынова.

Обидевшись на шутку поэта, Мартынов вызвал его на дуэль. 15 июля 1841 года Лермонтов был убит. Первоначально он был похоронен в Пятигорске, но после бабушка перевезла гроб с телом в Тарханы. В имении Лермонтов был похоронен в фамильной часовне-усыпальнице рядом с могилой матери.

«Песня про купца Калашникова» была написана в 1837 году. Она выдержана в стиле древней былины, которая поётся гуслярами. Как и положено, поэма-былина имеет запев, основную часть и заключение. Гусляры поют зачин, восхваляя себя и своё умение:
Мы певали её под гуслярский звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился…
Угощали нас три дни. три ночи
И все слушали не наслушались.

Если в былинах пир чаще всего завершает рассказ о подвигах главного героя, то в поэме именно пир служит завязкой всем событиям. Царь Иван Грозный пирует в своём дворце. С ним «его все бояре да князья». Но главными гостями царя являются опричники – его телохранители и послушные исполнители воли царской.
Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золочёный ковш
И поднесть его опричникам.
Царь – полновластный владыка, он вправе казнить и миловать.

Один его взгляд может возвысить или уничтожить. На отказавшегося выпить заздравную чашу Кирибеевича царь глядит гневно:
Вот нахмурил царь брови чёрные
И навёл на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого.
Когда же и взгляда оказывается недостаточно, царь желает привлечь внимание ослушника своим страшным посохом:
Вот об землю царь стукнул палкою,
и дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником.
Лермонтов мастерски вводит в описание детали исторической действительности. Иван Грозный не зря ввёл опричнину: страх за власть, за жизнь всегда не давали покоя царю. В любом человеке видит он изменника и заговорщика. Это видно из обращения его к Кирибеевичу:
Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
И открытая угроза звучит в речи царя:
Когда входит месяц – звезды радуются,
что светлей им гулять по поднебесью;
А которая в тучу прячется,
Та стремглав на землю падает...
Опричники в большинстве своём были людьми незнатными. Все, что они имели, им давал царь – и награды, и подарки, и позволение на грабёж осуждённых. Кирибеевич на упрёки Грозного отвечает:
А на праздничный день твоею милостью
Мы не хуже другого нарядимся.
И вниманием женским он не обделён:
У ворот стоят у тесовыих
Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь.

Всё есть у молодого красавца опричника – нет только любимой. Вернее, она есть, но беда в том, что
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается...
Кирибеевич, «лукавый раб», хитрит, обманывает царя: он скрывает, что избегает его замужняя женщина. И лицемерно просит у царя:
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое,
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское…
Получив от царя совет посвататься к любимой, Кирибеевич перетолковывает его для себя как разрешение на вседозволенность. И до того не робкий в поведении, сейчас он уверен в том, что всё ему простится. Ведь он любимец государя, и тот его всегда выручит, что бы ни случилось.

А в это время в своей лавке сидит купец Калашников. Неудачный выпал у него день: никто в лавку не заходит, товаров не покупает. Но пасмурно не только на душе молодого купца. В природе тоже нет покоя:

За Кремлём горит заря туманная;
Набегают тучки на небо, –
Гонит их метелица распеваючи.
По надвигающейся буре, по настроению купца, по нарушению домашнего быта его чувствуется приближение беды:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
Из беседы купца со старой служанкой мы узнаём имя его пропавшей жены и понимаем, что не просто так задержалась Алена Дмитриевна, идя от вечерни. Но сам Калашников ничего не знает и встречает припозднившуюся жену сурово:
Уж ты где, жена, жена шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрёпаны твои волосы,
Что одежда твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынком все боярским!..
Калашников – полновластный хозяин в лавке и в доме своём. Как он запирает на замок лавку и привязывает на цепь злого пса – так же может распоряжаться и близкими своими.
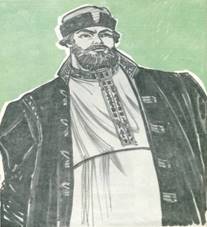
Как запру я тебя за железный замок,
За дубовою дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Моя имя честное не порочила...
Для Кирибеевича – царь, для Алёны Дмитриевны – муж. Царь волен в подданных, муж – в судьбе жены. И оба виновных обращаются почти одинаково к своим владыкам.
Кирибеевич:
Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного.
А прогневал тебя – воля царская;
Прикажи казнить, рубить голову,

Алена Дмитриевна:
Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня или выслушай!

За позор, нанесённый семье, Калашников не может отомстить обращением в суд. В любом случае оправдан будет опричник. Но и простить вину самоуверенному наглецу нельзя:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Как старший брат, Калашников после смерти отца волен требовать послушания от младших братьев. Но те и сами всей душой рады помочь старшему:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим.
Вечером рокового дня, когда Калашников узнал про нанесённый ему позор, погода соответствовала его настроению. Было пасмурно, стоял мороз, мела метель. В утро же судного дня заря разгоралась по-праздничному:
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
И это не зря, ведь Калашников будет сражаться «за святую правду-матушку».

Кирибеевич – человек без чести. Он хорошо понимает, что едва ли кто-нибудь выйдет с ним на бой. И не его самого боятся люди – боятся поднять руку на царского любимца, да ещё при самом царе. Этот страх делает опричника – в его глазах – непобедимым. Он насмехается над прочими бойцами:
Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку.
Кирибеевич, выходя на бой, кланяется только царю, Калашников же
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Опричник развлекает царя и тешит своё самолюбие. Калашников вступается за честь семьи, возможно, и не только своей.

Кирибеевич сначала насмехается над Калашниковым:
А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого-роду племени,
Каким именем прозываешься?
Чтоб знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем похвастаться.
Но, узнав, с кем имеет дело, меняется в лице:
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...
Бой был недолгим – всего по разу и ударили друг друга бойцы. Но бились они с разными чувствами. В душе Кирибеевича царили страх и смятение. Он прекрасно понимал, что пощады не будет. У Калашникова же «горят очи его соколиные», он вышел на бой «постоять за правду до последнева».
Кирибеевич физически не слаб: от его удара «погнулся крест и вдавился в грудь». Но в этом бою-судилище он виновный ответчик, поэтому и результат предрешён:
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.

С разгневанным царём Калашников говорит смело и открыто. Он не снимает с себя вины, но даёт понять, что Кирибеевич получил по заслугам:
Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольною волей,
А за что, про что – не скажу тебе,
Скажу только богу единому.

И заботит купца сейчас, перед смертью, только судьба его родных:
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью...

Подобно былинному князю, Иван Грозный в «Песне» строг, но справедлив. Он понимает, что неспроста пошёл на убийство Калашников, и не доискивается правды. Ведь купец знал, как относится царь к опричникам, и всё равно, даже на глазах у царя, убил. А семья в том не повинна.
Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
по всему царству русскому широкому
Торговать безданно, безпошлинно.
А провинившийся должен быть наказан. Но и здесь царь по-своему справедлив. Убийца? Да. Но ведь храбр и мужествен. Ответ «держал по совести». И за это должен быть отличен от простых преступников.

Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...
Самоубийц на Руси не хоронили в освящённой земле, т.е. на кладбище. Калашникова можно считать самоубийцей: знал, чем дело кончится. Поэтому
Схоронили его за Москва-рекой
На чистом поле Промеж трёх дорог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили,
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
Но народ помнит отчаянного храбреца, не убоявшегося грозного царя и убившего опричника. Убившего в честном бою. Поэтому
И проходят мимо люди добрые:
Пройдёт стар человек – перекрестится,
Пройдёт молодец – приосанится;
Пройдёт девица – пригорюнится,
А пройдут гусляры – споют песенку.
Как начинали гусляры свою песню-былину, так и заканчивают её на былинный лад:
Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали – красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!
Гусляры – голос народа. Они поют и боярину с его «боярыней белолицей», и простым людям. Потому и привечают их везде – и в тереме, и в деревне. Они восхваляют достойных и не скрывают вины и позора тех, кто этот позор заслужил.

И Лермонтов делает повествователями своей «Песни» гусляров. Напевность поэмы, устаревшая лексика – всё это естественно звучит в устах талантливых народных исполнителей, знатоков старины.
Лермонтов в «Песне...» «как будто современник этой эпохи, принял условия её грубой и дикой общественности, со всеми её оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других...».
Виссарион Григорьевич Белинский


 Получите свидетельство
Получите свидетельство Вход
Вход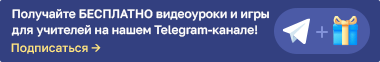
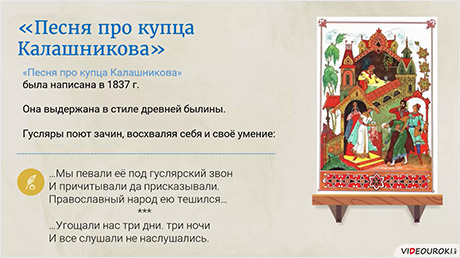



 0
0 4169
4169

