Максим Горький "Артист"
Толпа рабочих-крючников расположилась у железнодорожной насыпи, в ожидании, когда им подадут вагоны для разгрузки, и, лениво перебрасываясь односложными замечаниями, скучала. Лица утомлены, в поту и грязи, позы вялые, разговор не клеится, большинство полудремлет, забросив руки за голову... Издали, с выставки и из гостиниц, до них доносятся бойкие звуки бравурной музыки, глухой шум голосов, шипение струй фонтана, с другой стороны от них с грохотом и пронзительным свистом носятся взад и вперёд паровозы.
— Скучища... — замечает колосс с рыжей бородой, в студенческой фуражке...
— А ты вон слушай — музыка, — позёвывая, советует ему рябой, коренастый товарищ.
— Веселятся люди... которые имеют время на этот предмет, — сентенциозно говорит пожилой мужичок с лысиной и лицом суздальского типа...
Максим Горький "Случай с Евсейкой"
Однажды маленький мальчик Евсейка, - очень хороший человек! - сидя на берегу моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюет. А день был жаркий: стал Евсейка со скуки дремать и - бултых! - свалился в воду.
Свалился, но ничего, не испугался и плывет тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.
Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг - очень хорошо!
Ползет не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, и над ее тяжелым щитом играют две маленькие зеленые рыбешки, совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везет свою раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих вспомнил:
Дом, - не тележка у дядюшки Якова...
И вдруг слышит над головою у него точно кларнет запищал:
- Вы кто такой?
Смотрит - над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно ее уже зажарили и она лежит на блюде среди стола.
Максим Горький "В лесу"
В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. Тихо. Все вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга: они разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит не торопясь посветлевшее солнце, на черных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогающее душу движение: все быстрее встает туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, - кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя все выше, оно, радостное, благословляет, греет оголенную, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя ее. Все плывет в даль и манит дойти до синих краев земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый...
Максим Горький " В лесу"
Проснулись птицы: серые московки пуховыми шариками падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями, черный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ, чистейших на земле
Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири - глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь: когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идет в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Она, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи.
Иван Бунин "Антоновские яблоки"
А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...
К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев.
Иван Бунин "Антоновские яблоки"
В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железното цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!
Иван Бунин "Антоновские яблоки"
Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства!.. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!
Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки.
Иван Бунин " В Париже"
Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина — он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бумагой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.
Александр Куприн "Белый пудель"
Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал, наконец, видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:
— Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи...
Столько же, сколько шарманку, может быть даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою и мелкими житейскими интересами.
Александр Куприн "Изумруд"
Четырехлетний жеребец Изумруд — рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти — проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это — Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.
Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием.
Рэй Брэдбери "Остров"
И вот сейчас, глубокой зимней ночью, послышался один-единственный, одинокий звук. Звук разбивающегося оконного стекла, словно тонкий звон лопнувшего винного бокала, словно пробуждение от долгого и уютного зимнего сна.
Все пятеро обитателей этого дома-острова превратились в белые статуи.
Если бы кто-то заглянул в окна каждой комнаты, он бы подумал, что это музей восковых фигур. Каждый его обитатель, застывший от ужаса, был представлен в последнее мгновение работы мысли: когда пришло осознание. В каждом из остекленевших глаз виднелась та же самая искра, которая мелькает и навсегда запечатлевается в памяти, когда на залитой солнцем поляне застывший в испуге олень медленно поворачивает голову, чтобы заглянуть в длинное, холодное дуло стального ружья.
Туве Янсон "Муми-Тролль и волшебная зима"
Порой кто-то вздыхал во сне и, свернувшись клубочком, еще глубже зарывался в свою перину.
Луч луны, блуждая по гостиной от кресла-качалки к столу, переполз через медные шары, украшавшие спинку кровати, и ударил Муми-троллю прямо в лицо.
А потом случилось нечто неслыханное, не случавшееся никогда с тех самых пор, как первый муми-тролль погрузился в зимнюю спячку. Маленький Муми-тролль проснулся и заснуть уже больше не мог.
Он взглянул на лунный свет, на ледяные узоры, покрывавшие оконное стекло. Муми-тролль услышал, как внизу, в подвале, что-то бормочет печь, – с малыша все больше и больше слетал сон, и он все сильнее и сильнее удивлялся тому, что происходит. В конце концов он встал и едва слышными шагами подкрался к маминой кровати. Он осторожно потянул ее за ухо, но она не проснулась, а свернулась клубочком.
Туве Янсон "Муми-тролль и волшебная зима"
– Спасибо, – поблагодарила она мышек-невидимок и попросила Муми-тролля: – Только никогда не открывай этот шкаф. Обещай мне никогда его не открывать.
– Не буду я ничего обещать, – угрюмо ответил Муми-тролль, глядя в свою тарелку.
Ему вдруг показалось, что самое главное в мире – это открыть дверцу шкафа и посмотреть, висит ли там на месте купальный халатик. Огонь в печурке так разгорелся, что в трубе зашумело. В купальне стало совсем тепло, а под столом флейта продолжала наигрывать свою сиротливую мелодию.
Невидимые лапки убрали со стола опустевшие тарелки. В море стеарина утонул фитилек свечи, и она погасла. И теперь в купальне светился лишь красный глазок печурки да на полу – узор из зеленых и красных стеклышек, нарисованных лучами лунного света.
Туве Янсон "Муми-тролль и волшебная зима"
Беспомощно взглянув на нее, Муми-тролль ничего не ответил. Никто ничего больше не сказал. И вот тут-то как раз Снежная лошадь склонила голову и осторожно обнюхала бельчонка. Она вопросительно взглянула на Муми-тролля своими зеркальными глазами и тихонько помахала хвостом-метелкой.
И тут мышки-невидимки заиграли печальную мелодию на своих флейтах. Муми-тролль, кивнув головой, поблагодарил мышек.
Тогда лошадь подняла бельчонка и положила его себе на спину – вместе с хвостиком, купальной шапочкой и всем прочим; похоронная процессия направилась к морскому берегу
Почувствовав под копытами твердый ледяной наст, Снежная лошадь вскинула голову, а глаза у нее засветились. И вдруг, радостно подпрыгнув, она поскакала галопом вперед.
Мышки-невидимки перешли на веселую и быструю мелодию. Лошадь мчалась все дальше и дальше с бельчонком на спине и наконец превратилась в крохотную точку на горизонте.

 Получите свидетельство
Получите свидетельство Вход
Вход


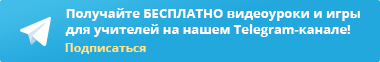









 Тексты для практики по теме "Второстепенные члены предложения. Определение. Приложение" (8 класс) (29.02 KB)
Тексты для практики по теме "Второстепенные члены предложения. Определение. Приложение" (8 класс) (29.02 KB)
 0
0 2423
2423 12
12 Нравится
0
Нравится
0


